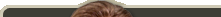Флегмона шеи
В. М. Бобров
В. А. Лысенко
Флегмона шеи представляет реальную опасность для жизни больного, что обусловлено анатомо-топографическими особенностями этой области, возможностью быстрого распространения процесса по клетчаточным пространствам и генерализации инфекции [5, 8]. В последнее время отмечается некоторый рост числа больных с флегмонами шеи [7]. Это связано с ухудшением уровня жизни людей вследствие экономического кризиса в стране, резким подъемом цен на лекарства, поздним обращением больных за медицинской помощью [7]. Причиной развития флегмоны шеи могут быть инородные тела глотки и гортани, кариес зубов, паратонзиллярный абсцесс, флегмонозная ангина, парафарингит, периодонтит, слюннокаменная болезнь, перикоронариты, перелом и остеомиелит челюстей. Иногда флегмона шеи развивается в результате ранений стенок пищевода.
В.С. Погосов и соавт. [8] подразделяют флегмоны шеи на верхние, средние и нижние, глубокие и поверхностные. Они выделяют подчелюстную и подбородочную флегмону, флегмону бокового или переднего отдела шеи, флегмону заднего отдела шеи, околопищеводную флегмону. Помимо этого, они наблюдали флегмоны, занимавшие несколько анатомических областей, но не выходившие за пределы шеи, в том числе циркулярную флегмону шеи. В отдельную группу они выделяют флегмоны, течение которых осложнилось развитием медиастинита. По мнению авторов, это деление условно, однако в конкретной ситуации оно позволяет избрать наиболее адекватный способ хирургического лечения [8].
Ангина и хронический тонзиллит - наиболее распространенные заболевания среди лиц молодого и трудоспособного возраста. В последние годы заметно возросло число больных с паратонзиллитом, паратонзиллярным и парафарингеальным абсцессами с образованием глубоких флегмон шеи, нередко приводящих к гибели больного [1, 4, 6, 9]. В связи с этим изучение причин развития данной патологии и разработка активных методов лечения остаются актуальными [10, 12].
Для флегмон шеи характерно отсутствие склонности к прорыву наружу и спонтанному опорожнению, поэтому ведущим методом их лечения является хирургическое, которое должно быть проведено в максимально ранние сроки (профилактика медиастинита, сепсиса и др.). Необходимы широкие (лампасные) разрезы на шее с некротомией пораженных участков тканей и качественным, беспрепятственным дренажом.
В период с 1985 по 2001 г. под нашим наблюдением находились 25 пациентов с флегмонами шеи. Мужчин было 19, женщин 6, возраст - от 17 лет до 81 года. Причинами развития флегмоны шеи были паратонзиллярный абсцесс у 12 больных (из них у 4 парафарингит), абсцесс надгортанника у 4, повреждение пищевода инородным телом у 2, травма шеи у 2, по одному: флегмона дна полости рта, трофическая язва шеи в результате термического ожога, флегмонозная ангина гортани, нагноившаяся срединная киста шеи, диффузный гранулирующий некротический (злокачественный) наружный отит. По критерию тяжести интоксикационного синдрома больные имели II-III степень [3].
У 7 больных были сопутствующие заболевания: сахарный диабет у 3 человек, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов головного мозга у 4.
2 больных страдали хроническим алкоголизмом. Один длительно принимал гормональные препараты. Значительно усугубляется состояние больных с флегмонами шеи при развитии осложнений. Так, у 7 больных развился медиастинит,
у 6 - сепсис, стеноз гортани - у 5, осумкованный плеврит и плевропневмония - у 5, гепаторенальный синдром - у 1, абсцесс легкого - у 1.
Всем больным проводилось рентгенологическое исследование: рентгенография шеи в боковой проекции и обзорный снимок грудной клетки и средостения. У 7 больных на боковой рентгенограмме выявлено увеличение расстояния между воздушным столбом и шейным отделом позвоночника; у 5 - наличие пузырьков газа в превертебральных мягких тканях с явлениями эзофагита. У больных с медиастинитом на рентгенограммах грудной клетки определялось расширение тени средостения. Все больные были оперированы в первые сутки с момента поступления. Выполнены хирургические вмешательства: абсцесс-тонзиллэктомия у 9 больных, вскрытие паратонзиллярного абсцесса у 3, вскрытие флегмоны шеи у 25, дренирование переднего средостения у 4, торакоцентез у 2, трахеотомия у 5. Хирургическое вмешательство под эндотрахеальным наркозом включало вскрытие всех очагов с ревизией и дренированием клетчаточных пространств шеи. Больных с медиастинитом оперировали совместно с торакальным хирургом. Операционные раны велись открыто с ежедневными перевязками и наложением вторичных швов после их очистки. Большую сложность представляет собой гнойно-некротический процесс, локализующийся в клетчатке вокруг сонной артерии и яремной вены. Такие процессы протекают наиболее тяжело и чаще осложняются кровотечением из аррозированных сосудов. Приводим наблюдение течения тяжелой и глубокой флегмоны шеи.
Больной Т., 32 лет, госпитализирован 15.09.95 по экстренным показаниям с диагнозом паратонзиллит справа, эпиглоттит, подчелюстной лимфаденит справа. В тот же день произведено вскрытие паратонзиллярного абсцесса справа. Состояние больного не улучшилось и на следующий день выполнена абсцесс-тонзиллэктомия справа. 17.09.95 состояние больного прежнее, несмотря на массивную противовоспалительную, дезинтоксикационную терапию. Симптомы интоксикации нарастали, появились признаки парафарингита, глубокой флегмоны шеи, переднего медиастинита. Под интубационным наркозом произведена верхняя трахеотомия, вскрытие глубокой флегмоны шеи справа и слева. Обнажен сосудисто-нервный пучок справа, выполнено дренирование переднего средостения. 20.09.95 у больного при рентгенографии легких выявлен большой пневмогидроторакс справа, экссудативный плеврит с осумкованием выпота, преимущественно в передних отделах, малый пневмоторакс слева. В 7-м межреберье справа по заднеподмышечной линии наложен дренаж по Бюллау. Из плевральной полости высеяны дрожжевые грибы типа Candida. В посеве крови на стерильность - рост споровой флоры. Проводилось отсасывание из плевральной полости гнойного содержимого, введение в плевральную полость раствора фурацилина 1:5000 в количестве 500-700 мл с последующей аспирацией и введением 400 мл раствора гипохлорита натрия в концентрации 400 мг/л. В дальнейшем через 15 мин дренажная трубка подсоединялась к системе по Бюллау.
Больному проводилась массивная антибактериальная, гипосенсибилизирующая, кардиотоническая, дезинтоксикационная, заместительная терапия. 21.09.95 возникло аррозивное кровотечение из внутренней яремной вены справа. Наложен Z-образный сосудистый шов на яремную вену. 22.09.95 ввиду повторного массивного профузного кровотечения из внутренней яремной вены справа произведена ее перевязка. В дальнейшем проводилась противовоспалительная, гипосенсибилизирующая терапия, переливание одногруппной эритромассы, плазмы. С противовоспалительной, стимулирующей целью больному проведен курс (5 сеансов) внутрисосудистого лазерного облучения крови (мощность излучения на торце световода 4 мВт) длительностью 20 мин. Рану на шее орошали стерильным раствором гипохлорита натрия (NaClO) в концентрации 400 мг/л. Гипохлорит натрия получали с помощью аппарата ЭДО-4.
Состояние пациента улучшилось, снизилась температура тела, уменьшилось количество гнойного отделяемого из раны и трахеи. Уровень молекул средней массы снизился с 0,4 до 0,26 усл. ед. После освобождения раны от гнойного содержимого проведено наложение отсроченных швов, деканюляция. Стома закрылась. Пациент на 63-и сутки после поступления в стационар выписан в удовлетворительном состоянии для амбулаторного долечивания.
При исследовании мазка из ран шеи у больных с флегмоной был обнаружен протей вульгарный, грамотрицательные бактерии группы кишечной палочки, непатогенные кокки, непатогенные нейсерии, neisseria flava, гемолитический и негемолитический стрептококк, смешанная кокковая флора, дрожжевые грибы рода Candida, золотистый стафилококк, синегнойная палочка, аэробная микрофлора. В некоторых случаях роста флоры не получено.
Существенное влияние на характер течения болезни и исход оказывает наличие сопутствующих заболеваний и возраст пациента. Из 6 умерших у 3 был паратонзиллярный абсцесс, у 2 - абсцедирующий эпиглоттит, у одного - посттравматический подчелюстной лимфаденит. 4 пациента были в возрасте старше 60 лет, у 3 из них был сахарный диабет, один длительно принимал гормональные препараты по поводу ревматоидного полиартрита.
При оценке эффективности проводимого лечения учитывали клиническое течение заболевания, выраженность болевого синдрома, температурную реакцию, динамику пульса. Изучали также динамику уровня молекул средней массы (МСМ) [11], индекс распределения (ИР), лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), гематологический показатель интоксикации (ГПИ), данные коагулограммы, биохимические показатели крови и ее стерильность, гематокритное число.
При поступлении у пациентов с флегмоной шеи имелись симптомы выраженной интоксикации - вялость, недомогание, повышение температуры тела, боли в области шеи и глотки, головная боль. Отмечался лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, увеличение СОЭ. Степень интоксикации характеризовали высокие цифры ЛИИ (от 4 до 6 и выше), ГПИ, как правило, был выше ЛИИ вдвое, увеличение уровня МСМ было значительным и находилось в пределах от 0,38 до 0,69 и выше, отмечалась тенденция к гиперкоагуляции. Динамика изменений индекса распределения имеет противоположную направленность. Гнойно-воспалительные процессы сопровождаются снижением ИР. По мере разрешения воспалительного процесса наблюдается нормализация ИР. Плохим прогностическим признаком является рост уровня МСМ до 0,8-1,0 усл. ед. Стойкое увеличение МСМ до предельно высоких значений, как правило, соответствовало развитию терминальных состояний.
После вскрытия флегмоны шеи с ревизией и дренированием клетчаточных пространств отмечалось повышение уровня МСМ, что можно объяснить влиянием операционной травмы. Кроме того, проведение инфузионной терапии и применение препаратов, улучшающих реологические свойства крови, способствуют выбросу МСМ из микроциркуляторного русла. Уменьшение явлений интоксикации после вскрытия флегмоны шеи и на фоне инфузионной и симптоматической терапии подтверждалось клинической картиной, лабораторными данными, снижением концентрации МСМ в сыворотке крови. Больных выписывали из стационара при нормализации показателей МСМ, ИР, ЛИИ, ГПИ и коагулограммы.
Таким образом, в последние годы наблюдается тенденция к увеличению числа осложнений острого и хронического тонзиллита в виде паратонзиллита, паратонзиллярного и парафарингеального абсцессов с образованием глубоких флегмон шеи и медиастинитов. Флегмоны шеи тонзиллогенной этиологии отличаются бурным течением и высокой летальностью. Это обусловлено снижением иммунологической реактивности организма, высокой вирулентностью инфекции и поздним поступлением больных, что в свою очередь ведет к запоздалому хирургическому лечению больных.
Особо неблагоприятно флегмона шеи протекает у пожилых пациентов и на фоне сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ИБС, атеросклероз, хронический алкоголизм, патологическое ожирение и др. Для успешного лечения больного с флегмоной шеи необходимо тесное взаимодействие оториноларинголога, хирурга, стоматолога, анестезиолога-реаниматолога. Успех лечения зависит от своевременной диагностики, особенно на догоспитальном этапе, детального обследования в специализированном ЛОР-отделении, раннего и адекватного хирургического вмешательства и комплексного консервативного лечения.
Определение уровня МСМ при лечении гнойно-воспалительных, септических состояний в ЛОР-практике целесообразно. Ценность метода - в возможности динамического, сопоставимого определения эндогенной интоксикации. Это позволит индивидуально подходить к состоянию больного, а также оценивать эффективность проводимой терапии и при необходимости корректировать ее.
Литература
1. Бобров В.М. Вестн оторинолар 1997; 6: 32-35.
2. Васильев В.С., Комар В.И. Здравоохр Белоруссии 1983; 2: 38-40.
3. Гостищев В.К., Федоровский Н.М. Хирургия 1994; 4: 48-50.
4. Захаров Ю.С. Сов мед 1991; 3: 69-71.
6. Микина Г.М., Копылов А.А., Горюнов Г.Г. Всероссийский съезд оториноларингологов, 15-й: Материалы. Ст-Петербург 1995; 427-430.
8. Погосов В.С., Мирошниченко Н.А., Гунчиков М.В. Вестн оторинолар 1996; 5: 43-45.
10. Смирнов Н.М. Журн ушн нос и горл бол 1979; 4: 83-84.
11. Шишкин С.А., Бобров В.М., Молчанова Л.И. Казан мед журн 1991; 4: 310.
12. Фоминых Т.Я. Вестн оторинолар 1996; 5: 46-47.
Поступила 10.04.02
Вернуться к содержанию номера